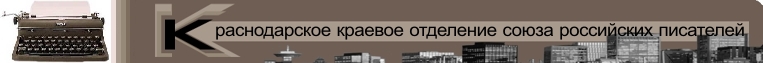
 Родился 24 января 1957 г. в пос. Комсомольский Оренбургской
области. Детство провел в Душанбе. В 1981 г. окончил Литературный
институт им. Горького, где занимался в семинаре Льва Озерова. Другой
учитель поэта Владимир Бурич. Служил в армии, в Группе Советских Войск в
Германии. Работал редактором «Альманаха библиофила», затем ответственным
секретарем журнала «Памир».
Родился 24 января 1957 г. в пос. Комсомольский Оренбургской
области. Детство провел в Душанбе. В 1981 г. окончил Литературный
институт им. Горького, где занимался в семинаре Льва Озерова. Другой
учитель поэта Владимир Бурич. Служил в армии, в Группе Советских Войск в
Германии. Работал редактором «Альманаха библиофила», затем ответственным
секретарем журнала «Памир».
После гражданской войны в Таджикистане переехал в Краснодарский край, в город Гулькевичи, где и живет ныне. Переводит поэзию с таджикского и фарси. Пишет стихи в жанре верлибра. По публикациям в журналах («Памир», «Русская провинция», «Арион»), альманахах («Поэзия», «День поэзии»), антологиях («Антология русского верлибра»), в 1991 г. принят в Союз российских писателей.
Закат
От нищеты, страданий и одиночества – я и поглупел.
Чтобы сегодня сидеть в пустой комнате, курить в потолок
и вспоминать что-нибудь.
Вот я, скажем, мастер СМУ МВД Таджикской ССР,
строю в 1969 году дачу Совета Министров.
А это мои подчинённые: Христофор Васильевич Герог, бригадир краснодеревщиков.
Рудольф Евгеньевич Клингер, бригадир плотников,
и Антон Антонович Кифер, бригадир керамзитчиков.
Я, знаете, шишка. Уже это приятно. Но ведь кроме
есть водка 90 копеек стакан, пиво 21 копейка кружка
и яблоко с веточки на закуску. Да, особенно яблоко с веточки на закуску.
Вот я топограф в колхозе имени Карла Маркса Самаркандской области.
Сегодня раис1 посылает мне казан плова и бутылку сверху,
а завтра приглашает порыбачить на Зеравшане.
Вот я вышкомонтажник в Бельджуане.
Иду с ведёрком по голому руслу и собираю свежую рыбу.
Утром бульдозер сломает плотину, и река вернётся в норму.
Это ли не самый цвет бытия? Это ли не жизнь как она светит?
Каким ещё должно быть лицо юности?
Я бы мог много рассказать о дурачествах наших дней, –
жаль, они будут выглядеть пошло в свете-то моей глупости.
Ну и что с того, что Орлов напился летом 63-го года
и читал на тумбе перед Оперобалетом Цветаеву?
Что я под видом спортсмена пробежал в трусах и майке
от «Ватана»2 до филармонии?
А Кашкаров искупался под фонтаном напротив гостиницы «Вахш»?
Что Синичкин поставил там же мольберт
и важно привлекал к себе молодых и красивых?
Да, нет уже улицы Абдулло-командира и Красноармейской,
и Тала, Тала, моя пышечка-лепёшечка уже десять лет как в Иерусалиме.
А я сижу в пустой комнате,
и дворняжка Чала грызёт мои мозоли на ногах, –
давай, давай, Чала, – ты урчи, а я буду хохотать.
«– Тала, – моё!» – И Тала в нижнем белье приносит тебе лук в уксусе.
«– Тала, а не отдохнуть ли нам?» – И Тала, покачивая бедрами,
включает пластинку Вертинского.
«– Тала, сколько времени длится ночь с тобой?»
«– Двадцать четыре часа в сутки».
Дета мои (у меня нет детей, родственников, жены,
и я не папа римский), дети мои, учитесь любить жизнь до воспоминаний и утрат!
А ещё я могу не спать до рассвета: надоедают комары и душа стоит колом.
Сидеть у окна весь вечер, читать два часа одну и ту же страницу.
Я уже давно не осознаю свою трагедию или трагедию человечества,
У меня нет сил ни возлюбить, ни возненавидеть самого себя.
Остались вечные, сырые, китайские окопы быта.
А ещё пыльная чинара за окном, иногда майна3 в её листве,
возгласы ребятишек во дворе, и органный девятиглавый потусторонний закат.
1992 г.
Из истории Бухарского ЧК
Николай Щекатуров, эх Николай Щекатуров!
Конь горел под тобой, пуля рассыпалась в песок перед твоим истым лицом,
ты крушил басмача, а потом роскошно хохотал над чаркой водки!
А ещё был футбол с полной победой Советской власти,
футбол в трусах «Динамо» по колено, и плаванье в марте по жёлтым азиатским рекам.
А когда наступал промежуток жизни, ты превращал в картонное решето
мишени подвального тира. Но время менялось:
Азия сладкой самкой ложилась под тебя, блат пряной жижей подмывал твой пост.
И ты стал буреть: отгрохал дачу на девятом километре,
посадил в машину Аллочку Сенцову и, что самое обидное, связался с пчеловодами.
В тридцать пятом вас и накрыли – всей компанией.
Николай Щекатуров, эх Николай Щекатуров!
Конь горел под тобой, пуля рассыпалась в песок перед твоим истым лицом –
ты крушил басмача, а потом роскошно хохотал над чаркой водки!
Окраины Сталинабада
Можно ли жить в 37, 43 и 47-м годах и не знать о репрессиях, лагерях и ссылках?
Можно – если, прежде всего – пропитанный кровью и потом
хлеб насущный, скорбная нежность семьи,
и уже потом – это политически-чужое,
столично-отчуждённое, как будто отрицательный закон природы.
Если вы живёте в камышовом бараке,
добавляете в муку из щавеля жмых и картошку и печёте лепёшки.
В это время старшая дочь при свете чагдана1 принимает роды
в колхозе «Коммунизм» Восейского района.
В это время старшая дочь несёт из райцентра в кишлак
хурджин2 с медикаментами и из 25 километров три четверти позади.
В это время старшая дочь обходит глинобитные кибитки таджиков,
что лежат вповалку, сражённые эпидемией малярии.
Легче с младшей: она на виду, и на втором участке «Шухрасай»
строит Варзобский канал.
Взрослые копают, а дети носят в мешках глину.
Скоро пригонят пленных немцев и её переведут табельщицей.
Можно ли жить в такой моральной тьме, – спросит историк, –
глухой массой, живым скотом, страдающим автоматом?
Они ничуть не лукавят, что их сюда заманило солнышко
(если знаешь про лишаи на затылке от жары и грязи – знай,
если не знаешь – не знай),
когда обставляют чтение «Коммуниста Таджикистана»
(стол, очки, слушающие старухи)
таким же ритуалом, как работу, обед или свадьбу.
Для кого-то быт – это политика, для кого-то политика – это быт,
но всё зависит от смазанных или ржавых шестерёнок повседневности.
Чернозем, благородства нужды сделали их людьми, неподсудными для готовых истин.
Теперь они седые, степенные, вечные: когда играют во дворе в карты или домино,
когда вспоминают, как строилась дорога «Мёртвая петля» позади Цемзавода,
как во время сыпного тифа 44-го года соорудили баню
со средней пропускной способностью 60 человек в час,
иногда дремлют на солнце, а когда кто-то собирается уходить,
его догоняют ещё одной сообщительной фразой:
«Да, да это было, когда окраинами Сталинабада были
поворот на Аэропорт и Кожзавод,
1-я Нагорная и Душанбинка,
Медгородок и Шанхай».
1992г.
В нашем Колхозабаде
Прощай, Кагановичабад, здравствуй, Колхозабад!
Прощай, Молотовабад, здравствуй, Дусти!
Здравствуй, 1956 год с его XX съездом, оттепелью и всеми переименованиями!
Здравствуй, юг! Мы сюда сорвались
от двухсот грамм пшеницы за трудодень, от холода и голой кочки быта.
Так вот ты какой, Колхозабад!
Улицы загравированы и политы нефтью (мы так и говорим «загравированы»
едва ли подозревая, что наша правда – в нашем языке),
кибитки небольшие, но с деревянным полом, в комнате печь с настоящей плитой,
электричество круглые сутки, и море, целое море овощей.
Правда, туго с топливом, двух кубометров гузапои2 хватает на десять дней,
но скоро появится каменный уголь.
А это что за чудо! Самолёт «Морава» от Курган-Тюбе до Дуста: воздушное такси
под стеклянной крышей на три человека – отец, мать и ребёнок.
Но мы, переселенцы из Куйбышевской области, удивляться будем недолго,
уже открыта геологическая экспедиция и начинаются буровые работы
на Кзыл-Тумшуке, Кичикбёле, Акбадашыре, Аксу и Андыгене.
Так и пройдёт вся жизнь в переездах, установлении вышек,
новых скважинах и фонтанах.
А пока мы гуляем по базару, прицениваемся к винограду и персикам,
по вечерам ходим на танцы,
в выходной можем искупаться в канале «Кумсангир».
Порой устаём от работы, но ни в коем случае не говорим «я устал»,
а просто «уё», что значит «уёхался», хотя это можно понимать и «пошёл отсюда».
Но сколько нам ни втолковывай, какие сокровища русского языка мы носим в себе,
мы ответим одно: такой белиберды здесь хоть пруд пруди,
будь то «рафтанули»1 или «хопчик»2.
На Рождество по обычаю устраиваем колядки,
на свадьбе можем передраться до крови, вселяемся в новые дома, и хорохоримся,
пока хозяин не выключит опохмелятор.
1992 г.
Финал
Спёртый воздух в коридоре, разбросанные вещи по комнатам,
печальный неуют – я разговариваю на кухне
с Владимиром Брониславовичем Сосинским.
– Я плыл по Мраморному морю, когда меня встретил собачий лай:
оказалось, на этот остров свозили бродячих собак.
– А когда мы подвыпили, вдруг встал Керенский:
«Хотите, напишу рассказ не хуже Бунина?»
– Скоро мне восемьдесят восемь: стало быть: зеро, зеро – зеро, зеро.
Странное ископаемое, сохранившее чувство юмора,
несмотря на революцию, бегство за кордон, ещё одну войну, немецкий плен
и возвращение в оттепель.
Он показывает французские и советские медали, и внук укоряет его:
– Дедушка, ты как Брежнев!
Из-за очков истекают крупные потоки голубого света.
Он охотно вспоминает о Цветаевой, но умалчивает о Набокове,
будто демон последнего охраняет тень своего хозяина и на том свете.
Но вот он спрашивает, не из «Дней» ли я, и я отвечаю «да»,
хотя эта газета выходила ещё в двадцатые годы.
За его плечами вырастает лучистый ангел, заполняет светом комнату,
пробивает потолок и уносится туда,
где навсегда смешиваются времена и годы.
1991 г.
Двоюродная земля
Видел: таджикская интифада, подростки с дрекольями и камнями наступали
на солдат, едва прикрытых пластмассовыми щитами.
Снайперы из здания ЦК разили нападающих, тех подымали
на руки и шли вперёд.
Давидзон сказал: «С твоей внешностью на улицу лучше не выходить»
Я ответил: «С твоей внешностью (!) лучше не выходить на улицу».
Крики, выстрелы, кровь, дым – долой коммунистов, русские, уезжайте в Россию,
Аллах акбар.
Снесли памятник Путовскому на одноимённой улице,
разбили стёкла аптеки, засрали школу.
Статистика молчит обо всех сожжённых, изнасилованных и ограбленных.
Позже площадь перед зданием ЦК назовут Шахидон, то есть безвинно убитых.
Видел: баррикады на улицах, ночные костры, дружинники, сбитые в кучки у домов.
Огненные бздюхи в небе над городом. Исход русских.
Взятки на контейнерной станции. Квартиры и дома за бесценок.
Давка за буханкой хлеба.
В этом переплёте сломит голову сам чёрт.
Памирцы, гармцы, кургантюбинцы, кулябцы,
орджоникидзеабадцы, ленинабадцы. Узбеки.
Вслед за лунатиками феодал-коммунистами пришли марсиане демоисламисты.
Не забудем о бухарских евреях.
Куда деваться корейцам, если Среднюю Азию покинут русские?
Афганистан. Общая граница СНГ.
Белые в пекле, в глухой душегубке, в коммунистическом Таджикистане,
который держится на штыках демократической России.
Злой хаос, энтропия, обвал.
Мы пришли и принесли сюда замирение, мы уходим и оставляем руины.
Помните, во времена идеологического террора, гнета,
мы жили как в дрёме, делились насущным,
знали не понаслышке, что такое гостеприимство,
добро было выпуклым, как хлеб-соль. Или мы добренькие, пока под кнутом?
Человек оказался мелким для свободы, свобода оказалась мелкой для человека.
Не будите во мне зверя! В сарае своего душанбинского дома
я оставил папки с воспоминаниями старожилов о довоенном Таджикистане,
я не перевёл философские рубай Джами, так и не издал избранного Хайяма,
не успел осмотреть древнезороастрийские памятники на Памире,
не искупался в Вахше,
Мне снятся осенние вечера в Душанбе, мирзочульские дыни,
пыльная фисташковая роща на холмах.
На православном кладбище лежит моя мать.
Могила заросла, и памятник осел. Надрывается сердце.
Слезотечение, без сомнения, было бы самым одухотворенным
из всех видов чувствования, если бы не эти проклятые сопли.
Не бойтесь слез, молодые поэты!
Прости-прощай, мама!
Прости-прощай, юность,
прости-прощай, двоюродная земля!
1 Раис – здесь председатель колхоза
2 «Ватан» – название кинотеатра в Душанбе
3 Майна – индийский скворец
1 Чагдан – правильно «чарогдон» (тадж.); разновидность светильника с подставкой
2 Хурджин (тадж.) – мешок
2 Гузапоя (тадж.) – сухие стебли хлопка.
1 От «рафтан» (тадж.) – идти, ходить
2 От «хуб» (тадж.) – хорошо, ладно