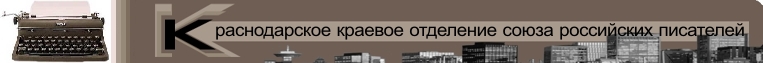

Юрий Гречко родился 1 января 1948 года в поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края в семье сельских учителей. Здесь и прошло его детство.
Окончив в 1966 году среднюю школу, по комсомольской путевке уехал на строительство железнодорожной магистрали Тюмень-Сургут, где работал лесорубом, затем – разнорабочим в Тобольской геологоразведке. Именно там, в западносибирской тайге, начал Ю. Гречко писать свои первые стихи. Новые впечатления и мотивы дала лирике молодого поэта срочная служба в Среднеазиатском военном округе. Душанбе, Куляб, Чимкент, Ташкент – повсюду возил он с собою потрепанную тетрадку, постепенно заполняющуюся стихами. Материал для будущей книжки продолжал накапливаться и в последующие годы, когда Юрий Гречко работал матросом в Дальневосточном пароходстве, районным газетчиком в Северном Казахстане, рабочим на нефтепромыслах Кубани. Первые поэтические публикации появились в студенческой многотиражке Павлодарского политехнического института и газете «Комсомолец Кубани». В 1972 году он поступает на филологический факультет Кубанского госуниверситета и, будучи студентом 4-го курса, становится участником краевого совещания молодых авторов. Итогом совещания для него стала рекомендация к изданию первой книжки стихов – «Паром через лето», которая увидела свет в 1979 году, сделав автора лауреатом всесоюзной литературной премии им. Горького.
В разные годы стихи Ю. Гречко печатали журналы «Октябрь», «Смена», «Студенческий меридиан», «Пограничник», «Кубань», альманахи «Поэзия», «Сузирья» (Киев), «Литературная учеба», газеты «Литературная Россия», «Московский литератор», «Комсомолец Кубани», «Звезда Прииртышья» и другие издания.
С 1992 по 1994 годы работал редактором южно-российского литературно-художественного и историко-культурного журнала «Югополис», издававшегося Ассоциацией городов юга России.
В произведениях Юрия Гречко – стихотворениях и поэмах, написанных за все эти годы, заметна значительная эволюция характера лирического героя – от эмоционально-романтического восприятия им окружающего мира до попыток трезвого философского осмысления, как взлетов, так и падений человеческого духа, неразрывно связанных с прошлым и настоящим нашего Отечества. Время как контекст человеческой жизни – и сама жизнь, становящаяся вместилищем исторических эпох, – вот основной мотив того, что волновало и волнует поэта. Живет и работает в Краснодаре.
ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ:
Паром через лето: стихи. – Краснодар: Кн. изд-во, 1979.
Черновой вариант: стихи. – М.: Современник, 1983.
Земные устои: стихи. – Краснодар: Кн. изд-во, 1988.
***
Вот и опять я одинок, молод и нищ.
В тамбур пустой молча приткнусь, где втихаря
месяц блеснет, словно тогда – из голенищ,
теплый на вид, чуть с желтизной, нож блатаря.
Каждый второй – с нар или так, сам по себе, –
через дворы шел на этап, будто оглох, –
финку точа о кирпичи не по злобе,
а оттого, что угодил в смену эпох.
Было легко жить без потерь – или терять
то, что само, вроде воды, мимо текло.
В омут нырять, в жаркий ночлег дверь отворять,
чувствуя, как дикий простор дышит в стекло.
Кто нас хранил, ангел какой из-за плеча
смерть отводил твердой рукой? Кто наливал
водку в стакан? Кто уходил прочь, бормоча
темный фольклор, – в снег, в никуда, в лесоповал?
О воровской, шалой любви пел баритон,
шли поезда через тайгу на Карфаген.
Все предсказал некогда Марк Порций Катон, –
так, что читать нынче нельзя, не офигев.
Можно стоять в тамбуре – и долго глядеть
в дымный ландшафт, видя, как сквозь твой силуэт
лес отлетел, станция и – ах, не успеть! –
бывшая жизнь, старая боль, гаснущий свет…
СТАРАЯ ПОВЕСТЬ
Что-то было вчера: скучный заговор леса с дождем
или комната в доме, где медленно таяли свечи,
клавикорды звенели в гостиной и старились вещи –
те, которым положено стариться… Я убежден:
что-то было вчера. То ли сладко попахивал вереск
из колючей вязанки, внесенной сюда для просушки,
то ли старый хозяин, опять среди ночи проснувшись,
подходил к клавикордам – не верить, а может быть, верить
одиночеству, лесу, под вечер вступившему в заговор,
в скучный заговор с осенью или с ноктюрном Шопена…
Что-то было вчера… В потемневшем камине шипела
дождевая вода. И старик просыпался и вздрагивал.
Ах, как это тянулось – ночное, неясное действие
под тускнеющий звук клавикордов и свет догоравших свечей,
под скрипучую старость давно постаревших вещей, –
ах, как это тянулось! Не смея надеяться,
что к утру все закончится, – все-таки я засыпал,
забывал свою роль и опять просыпался, и слушал,
как сгущается мрак за окном, как печальней и глуше
отзывается дом на излившийся в заговор бал…
***
Вернемтесь к прологу, туда,
где в желобе тесном
гремит дождевая вода
в паденье отвесном.
Где, свесивши в раму окна
края полушалка,
сирень молода и пышна,
как провинциалка.
Завязкой не пахнет еще,
но важно ли это?
Возьмем и наметим общо
движенье сюжета,
очертим сравнений и форм
пределы – не боле,
глубокого сна хлороформ
вдохнувши до боли.
Там тень мотылька, по стене
кружа временами,
как реплика чья-то, вчерне
придумана нами.
Былого неловкий покрой
уюта, уклада.
И юности воздух сырой.
И холод из сада.
В наивной и гордой тщете
поспорить с судьбою –
опять заживем в нищете,
в разладе с собою.
Как в самом начале времен,
как снег в круговерти:
не помня ни лиц, ни имен,
ни жизни, ни смерти…
***
Когда претерпит дух свои метаморфозы
и станет диктовать последнюю из книг, –
не дай нам, Бог, презреть главу житейской прозы
иль вымарать ее постыдный черновик.
Не приведи, Господь, нам сотворить кумира
из благостных минут, вздыхая и ворча,
переводя запас румяного кармина
на подмалевку дней, прожитых сгоряча.
К чему лукавить нам от имени искусства,
когда еще весом в пробелах между строк
язык домашних драм, переданный изустно,
бездарного вранья неистребимый слог?
Вот наших кухонь чад. Вот канувший в рутину,
взыскующий талант не подавать руки
и – ментик с плеч долой! – ответствовать кретину,
два палаша всадив в чугунный лед реки.
Все горестней читать, единожды предавши
свой первородный дар, в глубоких зеркалах
холодное лицо, как список распродажи
с манжеты игрока, продувшегося в прах.
Пускай звучит пролог и явственно, и грубо,
бестрепетно беря от каждого свое!..
Но кутает Эсхил на шаткой сцене клуба
измученную плоть в казенное тряпье.
Но женщина в слезах… но шелест междометий –
всех этих ах, увы… но рампа, свет струя, –
в нас отворяют кровь, как тайный смысл в предмете,
трактующем испод земного бытия.
В батальном полотне семейного раздора,
в корявой немоте воздетых к небу рук –
мы, вздрогнув, углядим классического вздора
и нищей страсти тень, явившуюся вдруг
зачем? Затем, чтоб пел рожок на переезде,
вводя в сюжет простор и дудочки мотив,
и полог темноты с прорехами созвездий,
как занавес, за днем прошедшим приспустив.
Затем, чтоб в духоте плацкартного вагона,
свой вечный монолог чуть слышно говоря,
над нами хоть во сне склонялась Антигона,
стареющая дочь фиванского царя…
***
Краски молодость сгущает.
Лист возлюбленный смущает
белизной. Наверняка
ночью вскроется река.
Будет замысел едва ли
распадаться на детали:
только контур, только свет
сквозь ладони – и привет!
Ах, не зря сомнений бремя
беспрестанно терпит время,
любит нас – и потому
свой черед придет всему.
Чаша первая испита
в гулкой зале общепита.
Воздух дымный и сырой
станет чашею второй.
Там, где зимники размокли,
в перевернутом бинокле –
степь, овражек, переезд,
музыка знакомых мест.
Снова спутницей бездомной
в колее с водой бездонной
вертит птичьей головой
тень планиды кочевой…