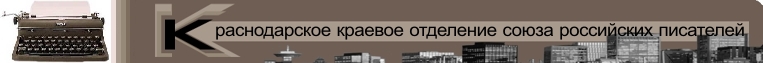

Родился 10 декабря 1926 года на Украине неподалеку от ныне всем печально известного Чернобыля, где и закончил перед войной семилетку.
Пятнадцатилетним подростком участвовал в Сталинградской битве, был контужен. Прошел затем дорогами войны от Сталинграда до Севастополя, в послевоенные годы строил объекты ракетно-полигонного комплекса Капустин Яр–Байконур.
Демобилизовавшись после восьмилетней солдатской службы, был токарем на сталинградском тракторном заводе, рыбачил на Черном и Азовском морях, рыл отводные каналы на нефтепромыслах в Баку, в качестве землекопа и бетонщика строил краснодарскую ТЭЦ.
В 1954 году один из его рассказов был опубликован в журнале «Смена», а вслед за тем в Краснодаре вышла первая книга. При ее очевидных недостатках, о ней тепло писали П. Чагин (которому Есенин посвятил некогда свои знаменитые «Стансы»), Зоя Крахмальникова (ныне известная публицистка религиозного толка).
Леонид Пасенюк в свое время увлекался альпинизмом, подводной охотой, но безраздельно владеющая им стихия – путешествия по неизведанным, малопроходимым краям нашей страны. С геологами он искал в тайге Северной Якутии алмазы. В Арктике, у берегов острова Врангеля, охотился с чукчами и эскимосами на моржей, прошел в составе экспедиций, но чаще в одиночку, от прилегающих к Японии островков Хабомаи до примыкающего к Камчатке Шумшу. Поднимался к кратерам вулканов и проникал в них.
В окрестностях камчатского вулкана Толбачик обнаружил никем прежде не замеченное явление: испепеленные в древности лавовыми потоками, но успевшие отпечататься в них, оставив навечно свои формы, стволы деревьев, он впервые сфотографировал и описал этот уникум нашей природы.
Л. Пасенюк дотошнейшим образом исследовал Командорские острова (широко известна его книга «Иду по Командорам»), и вполне по заслугам современные картографы оставили его имя в названии одного из мысов на острове Беринга.
Произведения Л. Пасенюка издавались в Чехословакии, Польше, Эстонии.
Член союза писателей СССР с 1956 года. Ныне член Союза российских писателей. Живет в Краснодаре.
ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ:
Нитка жемчуга: Рассказы и повесть. – М.: Мол. гвардия, 1960.
Семь спичек: Рассказы и повесть. – М.: Сов. писатель, 1962.
Съешьте сердце кита: Рассказы и повесть. – М.: Мол. гвардия, 1964.
Спеши опалить крылья: Роман. – М.: Сов. писатель, 1965.
Четверо на голом острове: Повести. – Краснодар: кн. изд-во, 1966.
Люди, горы, небо: Повести. – М.: Мол. гвардия, 1968.
Путешествие на белой шхуне. Жизнь моя, лес: Краснодар, 1970.
Островок на тонкой ножке: Путевые записки. – М.: Сов. писатель, 1972.
Глаз тайфуна: Рассказы и повести. – М.: Сов. писатель, 1975.
На гарпуне – кефаль: Записки. – Краснодар: кн. изд-во, 1976.
Чай с морошкой на берегу океана: Повести. – Краснодар: Кн. изд-во, 1980.
В одиночку на острове Беринга: М.: Мысль, 1981.
Часы Джеймса Кука: Историч. розыск. – Майкоп, 1998.
Русский зверобой в Америке: Историч. розыск. – Майкоп, 1999.
Котлубань, 42-й: Военная проза. – Майкоп, 2000.
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
Проведал дальнего родственника. Давно не виделись, беседуем не спеша и обстоятельно. Больше прошлое вспоминаем. Водка на столе, но не пьем, не те уже годы. Только нюхаем.
– Ну что ж, – говорю я ему, – жизнь свою в общем мы с тобой прожили достойно, никого не убивали, не предавали, не грабили…
– Да нет, – сказал он с суровым пониманием той непреложности, что себя не обманешь. – Я убивал. Немцев убивал… до того и финнов…
Мой собеседник – участник еще той, «незнаменитой», войны с так называемыми «белофиннами».
– Помню финна одного… не надо было так уж с ним, ни к чему… Хотя, конечно, война, да и сам был молодой, дурной, жестокий. Задание получили прорваться на танке в глубь обороны противника, там была уже брешь, и уничтожить какой-то их штабишко. А я механик-водитель. Ну, разметали мы этот блиндаж – уж не скажу, действительно ли штаб – а тут этот финн, откуда ни возьмись. Там и другие финны, конечно, были, но этого – этого я под гусеницу. Не надо уже было, но – азарт, горячка, злость. Тогда вот и орден получил Красной Звезды.
Но орден из всего экипажа получил только он. Уж не за то ли, что рука на рычагах ни разу не дрогнула? Хотя, вероятно, в иных обстоятельствах стоит и за это…
– Тут, понимаешь, еще и политика, наверно. Ведь как рентгеном просвечивали со всех сторон, если для чего понадобился, время-то было… То, что комсомолец, того еще мало. Все такие в экипаже. Короче, отдыхали мы как-то в землянке, выпал часок. Пока никто не дергает, полушубок под бок, лежу, читаю «Собор Парижской Богоматери». Заходит вдруг комиссар. Все повскакивали. Махнул: «Вольно, вольно!» Взял книгу, прочитал название, взглянул на меня так с любопытством, ничего не сказал и ушел. Тогда ведь не шибко красноармеец наш чтением увлекался, не было еще привычки, образования, что ли такого… А тут тем более фронт, боевые позиции – и «Собор Парижской Богоматери»! А через какое-то время слышу – представили меня к ордену.
Тут и конец разговору. Но для порядка решил все же уточнить:
– А я почему-то думал, что к ордену – это когда тебя ранили.
– Ранили меня позже. По глупости, можно сказать. Но мне тогда море было по колено, что ты… к тому же, вишь, на орден послали представление. Ну, вызвали добровольцев: «кукушка», финский снайпер, житья не дает, кто попытается снять? Выставился я с одним там, не помню уже фамилии. Пустая была затея, совсем не то, что танком на человека… Голое место. А мы – дуром в лоб! Герои, как же… Ну, снайпер сперва напарника моего щелкнул, потом и меня. Его – сразу насмерть, а меня – разрывной в ногу. Вот и хромаю всю жизнь. На войне, сам знаешь, если не ты его, значит, он тебя. Читал ты там «Собор Парижской Богоматери» или не читал.
ИСПАНСКАЯ ГРУСТЬ
Никогда не писал стихов и, пожалуй, не смогу объяснить почему. Ведь люблю поэзию, в юности многое заучивал наизусть, редко классику, чаще Маяковского, Блока, Багрицкого, Заболоцкого («Волшебный прибор Левенгука»), Смелякова («Любка Фейгельман», «Хорошая девочка Лида»), да мало ли… Но чтобы самому пытаться рифмой или метафорой блеснуть…
И все же два случая были.
Я учился в третьем-четвертом, когда в Испании вспыхнул мятеж антиреспубликански настроенных генералов. И как-то сразу эти события остро затронули нашу страну, взбудоражили общественность (мотивы, полагаю, объяснять не нужно), даже детей. Даже в моем глухом селе, близком к Чернобылю (чтобы наглядней представить), помню, собирали деньги в фонд помощи испанским детям, опустил и я в общую ту копилку нужный мне самому рубль. В школьном буфете вдруг появились невиданные нами до той поры пахучие оранжевые апельсины – на каждом яркий ярлычок, каждый в мягкой папиросной бумаге. Пошла мода на легкие шапочки с кисточкой спереди – прообраз вскоре введенных в армии пилоток. Ларго Кабальеро, Хосе Диас, Долорес Ибаррури, генералы Эрнесто Листер, Модесто, Матэ Залка (Лукач), Миаха (впоследствии саботажник)… Эти имена не сходили со страниц наших газет. И те из мальчишек, что поначитанней (учительский сын, из них я первый), с неподдельным увлечением следили по школьным картам за победными реляциями республиканцев. Картахена, Малага, Гвадалахарра, Теруэль, бои на Эбро… Звучные наименования чужих городов и территорий, события, близкие нашему интернациональному самосознанию (даром что еще детскому), волновали воображение, порождали чувства сопереживания.
И, переполненный ими, тогда-то я и сочинил свой первый довольно неуклюжий стишок на «украiнськiй мовi». От него в памяти осталась всего одна строчка, которую приводить не буду, скажу лишь, что героиней моего отчаянного поэтического опыта и была как раз «полум'яна Iбappypi», то есть пламенная, Пасионария…
Вторично меня подвигло на сочинение чего-то такого рифмованного тоже неординарное состояние души, точнее говоря, любовь к девушке, и было мне тогда никак не меньше лет двадцати, и я уже вполне способен был понять, что, хотя и складно на сей раз сочинилось и девушке моей понравилось, – поэтом, видно, мне не быть…
Вот откуда «у хлопца испанская грусть»… Она ведь осталась с тех еще лет, что-то такое в душе постоянно потом тяготело к Испании, может быть, подогреваемое и литературой. Не столько Сервантесом, Лопе де Вега или даже Бласко Ибаньесом, сколько, скорее всего более понятным и близким Хемингуэем…
Меня всегда привлекал строгий памятник старшему лейтенанту Рубену Ибаррури на площади Павших борцов в Сталинграде, под ним похоронены останки еще двух офицеров-летчиков – майора Каменьщикова и капитана Фаттахутдинова и, строго говоря, это общий всем троим интернациональный памятник. Работая после демобилизации в этом городе токарем на тракторном заводе, я частенько наведывался в центр и понемногу простаивал здесь, что-то, быть может, пытаясь понять в самом себе, в собственных ощущениях и пристрастиях, скорбно окрашенных мотивами трагической судьбы испанского юноши, сына Долорес Ибаррури, сложившего свою голову в борьбе с фашизмом где-то здесь на берегах Волги. Перефразируя то же стихотворение Михаила Светлова – чтоб землю на Волге врагу не отдать…
Что же касается мотивов судьбы Рубена Ибаррури, в подробностях я их в те годы не знал. Хотя, повторяю, темой Испании, судьбами испанских детей, которых к нам привозили в конце тридцатых, в той или иной мере интересовался всегда.
Потому с волнением прочитал в случайно купленном у букинистов неприхотливом «Сталинградском дневнике» А.С. Чуянова*, что Рубен Ибаррури, командуя пулеметной ротой курсантов, 24 августа 1942 года был смертельно ранен в боях за железнодорожную станцию Котлубань. За ту же Котлубань, невдалеке от которой неделей-другой позже сражалась и моя 308-я дивизия…
С большим трудом, пытаясь спасти (все-таки сын известной всему миру Пасионарии!), его переправили через Волгу, где он 3 сентября и умер в госпитале.
Но могло ведь случиться и так, что, останься он жив, наши пути у той же Котлубани и пересеклись бы. И у меня, наверное, было бы больше оснований писать сейчас об испанце Рубене Ибаррури у стен Сталинграда, используя те или иные дополнительные подробности тогдашних событий.
Но пути не пересеклись, да и был я тогда совсем еще мальчишкой, пылинкой в солдатской массе. К тому же у нас сполна достало тогда собственного лиха, своей собственной пролитой крови. Что же касается событий, к которым Рубен был тогда причастен, вот они в нескольких, быть может, громоздких фразах.
23 августа от излучины Дона, имея целью выйти к Волге и охватить Сталинград с севера, ринулась армада немецких танков. В этот же день по распоряжению командующего Сталинградским фронтом А.И. Еременко, ничего о том еще не подозревающего, с занимаемых чуть северо-восточней позиций была снята 87-я стрелковая дивизия с задачей переместиться к той самой донской излучине и укрепить на ней оборону. Но, как видим, она опоздала. Ни о чем плохом тоже не ведая, шла открыто рассредоточенными колоннами (да и где в степи, даже холмистой, среди бела дня спрячешься?). И вдруг на нее, совершенно беззащитную, не готовую к обороне, шквально обрушилась немецкая авиация, а затем навалились неисчислимые немецкие танки. Дивизия была смята, рассеяна и частью уничтожена.
К тому же она ушла с прежде занимаемых позиций не дождавшись, когда ее сменит, тоже с марша, 35-я гвардейская стрелковая дивизия. В которую как раз и входила пулеметная рота Рубена Ибаррури.
Короче, фронт на этом участке после ухода 87-й дивизии был оголен, и гвардейцам осталось лишь созерцать последствия ее бесславного разгрома. Танки генерала Хубе, любимчика Гитлера, устремились тем временем дальше к Волге. Недолго, впрочем, все это созерцая, 35-я дивизия быстро сориентировалась и нанесла сокрушительный удар во фланг следовавшей за танками мотопехоты противника. А в ночь на 24-е перерезала и образованный немцами коридор прорыва (позже немцы его восстановили и укрепили). Гвардейцам удалось также занять предназначенные им приказом позиции.
Вот в этих именно боях и был смертельно ранен Рубен Ибаррури, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза.
Но обо всем этом я узнал гораздо позже. А в 50-60-е годы упорно искал, где бы найти и прочитать имевший большой успех роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Мало того, и не диво, что я любил Хемингуэя. Интерес к названному роману подогревали еще и слухи о том, что Хемингуэй без должного пиетета писал в нем о Долорес Ибаррури. В частности, в диалоге партизан-республиканцев о ее сыне, которого она якобы отправила подальше от войны в Россию. Ты тут, мол, сражайся, а она, якобы такая «пламенная», преданная идеалам коммунизма и делу Республики, сыночка своего от беды увела…
Неправомочность самого появления подобной сцены в романе, для Долорес Ибаррури все же оскорбительной, была очевидной для тех, кто, как и я, прочитал роман где-то на стыке шестидесятых-семидесятых. Для тех, кто знал, что ее сын геройски погиб, сражаясь с фашизмом на Волге. На Волге он защищал от фашизма и свою Испанию…
Так или иначе, шли разговоры, что в Советском Союзе роман не издадут, по крайней мере, до тех пор, пока в Москве находится Ибаррури – и, возможно, власть предержащие на нее действительно оглядывались. Любопытно письмо Шолохова Е. Фурцевой, тогдашнему министру культуры, датированное 17 апреля 1960 года, с просьбой посодействовать публикации романа в журнале «Нева»: «Не мне говорить Вам о том, как важно было бы привлечь на нашу сторону Хемингуэя…»** Но даже просьба нашего всенародно и официально признанного классика ни к чему не привела, и роман «По ком звонит колокол» был опубликован на русском лишь восемь лет спустя.
И вряд ли тут есть вина самой Ибаррури. (Мне случилось видеть телерепортаж о ее окончательном возвращении в Испанию в 1977 году, проводы в аэропорту Шереметьево, когда абсолютно бесцветный М.А. Суслов, сгорбившись, читал по бумажке, как по складам, приличествующую моменту речь, путаясь в словах и ударениях, – редкое было позорище!). Да, вряд ли тут есть какая-нибудь прямая вина Долорес Ибаррури, поскольку до 1977 года роман Хемингуэя выходил у нас уже раза два-три. (В моей библиотеке есть единственное в своем роде подарочное его издание на мелованной бумаге с иллюстрациями Д. Шмаринова, – правда, вышедшее уже в 1984 году, в канун перестройки).
Похоже, Ибаррури постаралась стать выше личных обид, если считать, что они были, но уж эти наши малообразованные, воистину серые, идеологические кардиналы, привычные лишь к одной той вожже, чтобы «держать и не пущать»!
Долорес Ибаррури, по-видимому, достаточно было и того, что Хемингуэй написал свой роман с ненавистью к фашизму и безусловной любовью к Испании, которую он хорошо знал, за которую сражался не только пером и словом, но бывало, что и штыком. В своих воспоминаниях (Кн. 2. Мне не хватало Испании. М., 1988), хотя и сухо-перечислительно, она об этом объективно свидетельствует сама: «Вместе с нами боролись Мальро и Хемингуэй… Эрнст Буш, Михаил Кольцов, Роман Кармен… с нами были Луи Арагон, Илья Эренбург, Поль Робсон… Лучшие представители мировой интеллигенции стали на нашу сторону».
А в душе она могла думать что угодно, и, наверное, была бы права. Хемингуэй написал предвзятую сцену. Художественно ее можно было бы и оправдать, но документально-исторически, вряд ли. Потому что о сыне Пасионарии он мог бы предварительно и справки навести. И тогда его партизанам не пришлось бы плести небылицы. Тем более, что Рубен Ибаррури юношей воевал и в Испании.
Еще в начале 1935 года, задолго до известных событий, по решению руководства компартии Испании дети Ибаррури были вывезены в Советский Союз. Но объяснялось это решение только тем немаловажным обстоятельством, что Пасионарию раз за разом сажали в тюрьмы, и она не всегда могла уделять своим детям родительское внимание и заботу. Зачастую они оставались просто-напросто беспризорными.
В Москве Рубен выучился на токаря и какое-то время работал на заводе им. Лихачева, затем поступил в авиационное училище. И в конце концов все же возвратился в Испанию! Не могу утверждать наверное, но можно предположить, что при этом не обошлось без влияния матери.
Сражаясь в рядах республиканцев под началом популярного генерала Модесто, он, так или иначе, пережил всю горечь их поражения. С ними через заснеженные Пиренеи он ушел во Францию, все эти годы придерживавшуюся позорной политики невмешательства и к республиканцам недружественную. Отсюда – концлагерь под открытым небом, холод и жизнь впроголодь. Не знаю, как скоро, но Рубена с группой товарищей удалось из лагеря вызволить – и он снова приехал в Советский Союз, соединившись, наконец, с матерью и сестрой.
Вот об этом-то Хемингуэй мог бы и знать. Тогда не было бы и столь досадной накладки в его замечательном романе, в котором, впрочем, не только ни в чем не повинному Рубену досталось.
Чуть только грянула Великая Отечественная, военный курсант Рубен Ибаррури добровольно ушел на фронт. В Белоруссии под Борисовом он был тяжело ранен и позже за проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды.
Следующая ступень – Звезда Героя за Котлубань. Трагическая ступень в весьма драматическом развитии событий. Достойных нового романа, к сожалению, так и не написанного.*** Не нашелся еще у нас свой Хемингуэй. В книге которого на сей раз мог бы быть достойно высветлен и образ Рубена Ибаррури, героя Испании и России.
«ЦВАЙ киндер – драй киндер»
Василий Васильевич Жук, не так давно первый пилот, командир пассажирского Ан-24, теперь уже на пенсии. Появилось время – чаще стал наведываться к отцу на Ставрополье, пока тот еще был жив. А то ведь все некогда было. Да и особо теплыми их отношения назвать было трудно. Каждый отстаивал свою правду. Спорили иногда до хрипоты.
Отец клял перестройку, защищал все свое старое привычное, оправдывал даже репрессии. И неудивительно: ходил когда-то в сельских активистах, тоже чьи-то ломал судьбы в годы раскулачивания и сплошной коллективизации. Тогда-то и приметили его рвение, в органы взяли, в район…
– Репрессии, говоришь? – бывало, доказывал он сыну. – Да я сам подписывал такие приговоры и считаю, что был прав. Не отказываюсь, подписывал! Кулакам-мироедам, вредителям, врагам народа, словом… А ты, Вася, рассуждаешь, как Собчак! Ты и есть натуральный Собчак!
Упорное нежелание переосмысливать прошлое, стремление оставаться, как в защитном коконе, в баюкающих совесть привычных заблуждениях – отличительная черта таких вот стариков-ветеранов. Да хоть и моего собственного отца. Никакой вины. Все было правильно. Классовая борьба. Лес рубят – щепки летят. Права человека? А что это такое?
Что касается этого самого Василия Ефимовича, когда началась Великая Отечественная, подобно большинству его коллег мог он остаться в тылу в органах. Но нет, отсиживаться за чужими спинами и вылавливать по буеракам дезертиров не пожелал, – предпочел встретиться с врагом, уже настоящим и грозным, в открытом бою. Что ж, по-своему он был честен, предан внушенным ему «принципам», вдобавок и крутоват, упрям характером.
Однажды рассказал сыну о штыковой атаке, в которой участвовал.
Штыковая атака – едва ли не самое страшное на войне. Психологически почти непереносимое. Успокаивать, поддерживать, весьма относительно, может лишь одно: чувство локтя. Рядом бежит товарищ. Быть может и выручит, отведет удар. Как еще сложится атака. В свою очередь, рассчитывает и он на тебя.
И ты бежишь, заворожено глядя на стремительно вырастающий, играющий смертельно-острыми гранями чужой штык, в горячке даже не помышляя, что он вот-вот, через минуту, через секунду достанет тебя и пронзит. Слепое, звериное желание извернуться, упредить, ударить первым… Но то же истерично-злобное самоохранительное чувство толкает навстречу и немца. Кто кого?!.
Страшные, нечеловеческие минуты…
У немцев, кстати сказать, был особый знак, им награждали за участие в штыковой атаке. Наши в такие тонкости не входили. Да и награждали-то у нас преимущественно офицеров.
Немец ударил Василия Ефимовича под правую ключицу. Штык прошел насквозь (пронзил!) – и Василий Ефимович, падая, невольно наваливался на немца. Тот засуетился – никак не мог выдернуть штык – и тут-то на него обрушился сзади удар прикладом. Как раз и выручил товарищ!
Немец упал и закричал, цепенея перед неизбежным:
– Нихт капут, цвай киндер!
– А у меня драй киндер, – прохрипел Василий Ефимович, и, уже теряя сознание, тупо воткнул ему штык в рот.
Ужасна вот эта подробность: именно в рот. Но… у войны лицо мужское.
1994 г.
ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД
Однажды в трамвае ко мне подсел видный мужчина, уже, впрочем, немолодой. Но крепкий, еще вполне себе на уме. Я не знал его, но он, по-видимому, какое-то представление обо мне имел. И вот, будучи слегка в подпитии, решил заговорить, да был и повод.
Участник войны, узник немецких концлагерей и тюрем, откуда дважды или трижды бежал, он резонно полагал, что пережил нечто достойное памяти и увековечения. Потому и написал воспоминания. Так не возьмусь ли я их прочитать, раз уж я сам что-то такое пишу и знаю в том толк? Ну, советы какие-нибудь, поправки, общее направление задать… оценить по содержанию, хотя за содержание он ручается.
За годы литературного труда я уже достаточно начитался таких воспоминаний, рецензировал их для издательств, вершил как бы и суд над ними. Их авторы действительно могли быть людьми незаурядными, героического склада, прошедшими огонь и воду, но рассказать об этом сплошь и рядом не умели. Сбивались на рутину, на военную повседневность: оттуда ушли, туда пришли, там перестрелка, там засада…
Тем не менее, прочитать рукопись, дать оценку, помочь советом, даже при всей моей обычной сверхзанятости, я всегда был готов, да как-то совестно отказывать, ведь и сам той войны немного хлебнул. К тому же, как знать заранее, где потеряешь, а где найдешь?
Между тем товарищ, с которым я разговорился в трамвае, рукопись так и не принес. Не знаю, может, на трезвую голову его что-то остановило или постеснялся. А вскоре прошел слух, что он умер, И лишь несколько лет спустя один мой знакомый (вместе когда-то на строительстве краснодарской ТЭЦ бетон лопатами ворочали), повстречав меня, сказал:
– Давно хочу к тебе обратиться… Просмотрел бы ты рукопись моего покойного тестя, а то не знаю, что с ней делать. Мужик он с судьбой, я-то читал – мне понравилось…
Речь шла, как оказалось, о той же самой рукописи.
Но чуда не произошло. Наговорил тот Маслов – назовем его так – много, но не сказал о войне ничего нового или по-своему увиденного, не вычленил из бесформицы материала чего-то такого, что хоть как-то проискрило бы, если уж не ударило током… Кроме разве одного-двух эпизодов, ради которых, возможно, стоило и об остальном писать.
Совершив два неудачных побега, в третий раз Маслов бежал, чуть ли не из самой сердцевины Германии – из тюрьмы неподалеку от Берлина. Ушел от погони, пересек проселками-задворками, лесной чащобой половину рейха – и достиг, наконец, спасительной Польши… оборванный, вшивый, голодный, в ранах и струпьях… Не без труда, не без многочисленных проверок Маслов сумел связаться с русско-польским партизанским отрядом, в котором вскоре стал заместителем командира.
Были мелкие бои. Были нападения на немецкие арьергарды, на штабные машины, на оплошных мотоциклистов. И каждый раз потом долгое заметание следов… Изредка, в безвыходном положении, подкармливались в несытых польских селах, пополняли запасы – и быстро уходили.
В одно такое село из ближнего городка, где стоял немецкий гарнизон, дождливым деньком внезапно нагрянул комендант. И – сразу к старосте:
– Партизаны были?
А, видно, комендант уже знал, что были – и требовал теперь подтверждения, проверял на лояльность.
Кряжистый, с натруженными руками крестьянина, еще не старый поляк медленно поднялся из-за обеденного стола.
– Нет, – сказал он, не моргнув глазом. Комендант заметно брезгливо подошел ближе, взглянул на него в упор.
– Так были или нет?
– Нет. Не видел. Не знаю.
Стек коменданта, как барабанная палочка перед казнью, выбил по краю столешницы короткую нервную дробь.
– Еще раз спрашиваю…
Невыразительно-одутловатое лицо старосты вдруг отвердело, в глазах пыхнула злость. Он рванул ворот домотканой льняной рубахи – на голой шее дернулся жалкий металлический крестик.
– Не веришь?! – Бряк головой на стол. – Ну, так руби!!!
Офицер несколько мгновений тупо и без звука смотрел на морщинистую, с напрягшимися жилами, шею старосты, дернул судорожно плечом и вышел вон.
Последний довод… Но какой страшный, какой яростно безжалостный к самому себе! Какой, я бы сказал, библейский…
И жаль, что одного такого – исходя из предложенного тогда материала – для книги все же мало. Да мало и двух.
– О –
Вот и вся история. Но когда я дописал эту страницу, захотелось для порядка освежить в памяти, а что же все-таки сталось с тем Масловым, почему он так скоропостижно умер. С виду-то мужик был еще хоть куда. Женщины – ну, конечно, в известном возрасте – к нему откровенно льнули, хотя подчас и крутовато он с ними обходился.
Позвал из соседней комнаты жену, она о нем слышала больше.
– Маслов? Да он же в аварию тяжелую попал. Была сложная операция. Когда очнулся – глядь, а он этими… катетерами, трубками с физраствором утыкан. Лежит совершенно беспомощный, проводки кислородные в ноздрях торчат… Ну, тут к нему пришла женщина, с которой он в последнее время жил. Думаю, что вне брака… Посидела немного и ушла. Не идет день, не идет другой, нет ее и на третий. И вот он встал кое-как однажды с кровати с этими стекляшками во весь свой немалый рост, резко выдернул их одну за другой – и упал. Упал замертво.
Тоже поступок, и как странно он вдруг соотнесен с тем предыдущим. Хотя и несходны мотивы. Сходен порыв человеческий. Вызов судьбе…
НА ЗЕЛЕНОМ КОВРИКЕ В РОЗОВЫЕ ОБЛАЧКА
В альманахе «Кубань» готовится к печати моя повесть «Люди, горы, небо». Есть в ней такая сценка: осваивающая азы скалолазания девушка зависла на веревке, раскачиваясь в тщетных попытках ухватиться за выступ скалы. Хочешь не хочешь, пришлось обратиться к парню, весьма к ней неравнодушному: «Подсади-и…» Он чуть ли не в шоке от неожиданно дарованной ему возможности помочь любимой, прикоснуться к ней. Ему дарованной, именно ему! Повесть написана от первого лица, и текст ее гласит: «Я легко подсаживаю Катю – ягодицы у нее теплые и маленькие как у ребенка. Она кивает мне уже сверху – вместе со вздохом облегчения: мол, все в порядке, спасибо…»
Редактировал повесть писатель Юрий Абдашев, заведовавший тогда отделом прозы альманаха. Редактору же альманаха сценка показалась чуть ли не порнографией. Он потребовал убрать эти «теплые маленькие ягодицы». Но Абдашев встал на защиту автора, доказывая, что ничего такого уж крамольно безнравственного в этой фразе нет. Короче, повздорили, и редактору пришлось уступить. При этом, в знак принципиального своего несогласия, он швырнул на пол авторучку и с треском раздавил ее каблуком.
Скажу в его оправдание, что такова была эпоха: год спустя в вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» книге эти «ягодицы» все же не прошли. Тут уж тем более молодежное издательство, как можно!
И не то, чтобы редактор альманаха был совсем уж ханжой, числились за ним и кое-какие страстишки, да и на войне всякого повидал, но вот поди же ты… Помню одну из его первых военных повестей. Писателем он был вполне средних достоинств, но, по крайней мере, когда описывал окопную жизнь, это у него получалось, материал был выстраданный. Сложнее было с любовью, которая, как известно, заявляет свои права и «под грохот канонады». Ее и вообще-то чрезвычайно сложно описывать, тема тонкая, интимная, в то же время где-то подталкивающая и к откровенно обнаженным живописным мазкам. А тут еще человек наглухо зашоренный коммунистической лицемерно-пуританской моралью: у нас, мол, все не так, как по грубой природе должно быть, у нас – возвышенно-воздушно. И как ни мыкался бедный автор той военной книги, но, когда любовь героя и героини достигла некоего уже критического пика, именно этой формуле он послушно и следовал: «Сильная и упругая волна подхватила ее и подняла к небу, и она уже не могла понять, где звезды и где глаза Русанова. Только слышала, что совсем близко – в ивах и, может быть, в самом ее сердце запели соловьи. И как чудна и странна была их мелодия! Она отозвалась в ней болью, взмыла в розовые небесные облачка и унесла туда на зеленом коврике террасы…»
Какие уж тут ягодицы, кощунственно даже подумать.