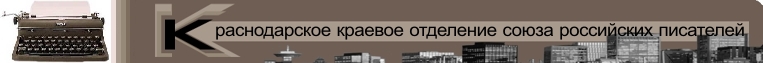
Родилась 13 сентября 1959 г. в Краснодаре, в семье педагогов. Окончив Краснодарское музыкальное училище им. Римского-Корсакова, уехала в Ашхабад, там поступила на заочное отделение русской филологии в Туркменский госуниверсит. В 1982 г., вернувшись с семьей в Краснодар, продолжила учебу, окончив Кубанский госуниверситет.
Работала концертмейстером в музыкальном училище, санитаркой в детской больнице, педагогом-организатором в жилуправлении. С 1987 г. преподает в средней школе русский язык и литературу.
Пишет прозу, в основном, в жанре рассказа. В 198587 гг. занималась в литобъединении при газете «Комсомолец Кубани» под руководством Ю.Н. Абдашева, позже В.И. Лихоносова. Рассказы публиковались в газетах («Литературная Кубань», «Краснодар»), журналах («Русская провинция», Москва), альманахах, коллективных сборниках («Благослови»). В 1996 г. по публикациям принята в Союз писателей России. В 1999 г. перешла в Союз российских писателей.
Сборник рассказов «Соло для колибри» удостоен гранта президента России за 2001 год.
ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ:
Сцены с белкой и оливами: Повесть и рассказы. Интернет, www.elobanova.narod.ru 2001.
Бремя надежд: Повесть и рассказы. Краснодар, 2002.
АХ ТЫ, НОЧЕНЬКА
В понедельник ждали санэпидстанцию. А накануне, в воскресенье, ночная медсестра уговорила Матрёну поменяться с ней дежурством.
Ну, кто ни шасть всё на мою часть! сказала Матрёна и, надев халат, пошла к мамашам просить, чтоб сами протёрли с хлорамином детские шкафчики, тумбочки и дверные ручки.
Но мамаш обнаружилось всего две: одна, вновь поступившая, с ребёнком до года, другая неряха Тамарка, скандалистка и матерщинница, с которой связываться никто не хотел. На Матрёниных дежурствах сроду не случалось приличных мамаш. А если и попадётся одна значит, обязательно потечёт труба в седьмой палате. А если не труба, так ночью приступ случится у совершенно готового к выписке ребёнка.
Вот и теперь. Не успела Матрёна дойти до постового столика, как явилась санитарка Шура с известием: в ванной от окна отодрали шпингалет.
Опять? Ну, черти! Забей, Шурочка! Или гвоздя опять нет? Матрёна откидывается на стуле и беззвучно шевелит губами.
Ну, не ведьма?! Прокофьевна а? У неё ж этих гвоздей в чулане тонны! А ключа в жизни не оставит. Порошка ей жалко два грамма! Что я две ложки стирального порошка возьму! Старшей, ты подумай, донесла, что я раз на смене Сашкины штаны стирала. А?!
Да ладно, чё ты, успокаивает Шура. Вилкой там заткну, и нормально. Влезут, что ли? Наркоманы они ж не альпинисты.
Матрёна вздыхает и принимается за постовой журнал. Почерк у неё крупный, разборчивый. Ровная строчка бежит из-под пальцев, а губы между делом отвечают кому-то: «Помню, помню, несите ребёнка», «Секундочку, мамаша!», «Приходько, в угол счас поставлю!», «Шура, новенькую куда положили?»
В одиннадцатую, куда ж ещё. Там в углу кровать целая.
Нет, ты подумай: как моё дежурство, так или новый брошенный, или Катька помирает.
Точно! Уже смеются все: Матрёна опять Катьку спасала!
Глянуть хоть не пора там её откачивать? Ничего не успеваю, Шура, ни-че-го! Дома белья полная ванна Вот правильно старые люди говорят: идут сейчас Соломоновы годы. И сказано: хоть и много их будет, а промелькнут все, как один день.
Ближе к ночи отделение затихает. Вот уже и драчун Приходько отпущен из угла, и у двери в шестую, девчачью, произнесено зловеще: «Только услышу ещё одно хи-хи » Уже подпёрта гладильным столом ненадёжная лестничная дверь, и Шура, домывая пол в столовой, сердито разгоняет засидевшихся мамаш:
Малышей нам всех перебудите! А как анализы отнести, так вас ни одной, как повымерли
Уже дремлет и Матрёна под плакатом «Мой пост моя гордость», уронив голову на рассыпанные по столу бланки для анализов. Но Шура, гремя бутылочками с манной кашей, трясёт её за плечо:
Моть, а Моть! Брошенных кормить Да не вздрагивай, это ж я, я!
Шурочка родненькая! Думала, залез кто Корвалол там, в шкафу... ноги не держат
Ну, Матрёна!.. Ты лечиться думаешь или нет?! На работе ладно хоть лекарства под рукой, а дома, да одна если?
Ой, Шурка, не говори Ночью вскочишь, сердце выпрыгивает, ноги как чужие, а Генка в командировке Сыночки ж спят хоть оглоблей бей! На колени брякнешься та ползёшь до любимой свекровушки, маты послушать Невроз, невроз настоящий Ой, шприцы там глянь выключила, нет?
Одиннадцатая уже голосит на весь коридор. Пока идут туда из процедурной Шура, прижимая к животу бутылочки с сосками, Матрёна стерилизатор со шприцами навстречу несётся всё громче, всё настырнее: «Гха-а-а! Вва-вва-вва! Йя-йя-йя-а-а!»
Тамарка доказывала: только русские, мол, детей бросают, вспоминает Шура.
Здра-а-а-сте! изумляется Матрёна и даже останавливается посреди коридора. А Цыган кто ж? В песочнице нашли, поди догадайся армянин он, грузин или араб какой? Прозвали Цыган да Цыган, что он чёрный да страшный. А негритёнок, помнишь, лежал? Весь мир, Шурка, с ума сошел, весь! Вон глянь, у девчонок на стенке думаешь, певец эстрадный? Да ты посмотри на этого певца: весь в черном, и рожа чёрным размалёвана, и ногти! Сатана это, Шурочка, сам сатана! Это он нас опутал, глаза отвёл, и не узнаём теперь его
Ой, Мотька, ну ты даёшь! прыскает Шура. Не смеши, я ж с бутылками! Открывай давай.
Щелчок выключателя и все голоса в одиннадцатой сливаются в единый истошно-ликующий вопль.
Шур, Генку подержи, чтоб не дёргался, пока уколю. Попростужались с этим ремонтом
Руки Шуры ловко и привычно делают своё дело, пеленая худенькие ножки, обмывая розовые задки.
Катька, бесстыжая! Живёхонька твоя любимица, радуйся, все пелёнки уделала!
Анализ бы ей взять. Может, там палки уже, зевая, бормочет Матрёна. И Цыган опять заболел. В Дом ребёнка только приготовили и глянь, суставы!
Шишки вот эти, да? А не студенты ему свихнули? Они ж как лошади здоровые И главное, какой дурак сюда этих мам пускает? Генку гулять приучили. Ишь орёт, паразит, на руки просится! На улицу его, красавца! Небось Цыгана вынеси, так со страху перекинется.
Постепенно разноголосый рёв стихает, заменяясь счастливым чмоканьем. Не спит в углу только новенькая, Жанна. «Мариненко Ж., 1 год 2 мес.» написано на листочке, прикреплённом к стене. Жанну принесла утром заплаканная бабушка лет сорока, у которой дочь уехала неведомо куда и с кем, не сказав матери ни слова.
Внученьку, кровиночку мою! причитала бабушка, вытирая концом длинного шарфа слёзы с таких же круглых, как у Жанны, щёк. Жива буду, возьму тебя Как на пенсию выйду, так и возьму! А Жанна, сидя у неё на коленях, грызла бублик и болтала ножками в беленьких носочках.
С тех самых пор Жанна и не спит. Целый день она ходит по кроватке-манежу взад и вперёд, сбив в комок полосатую пелёнку, и недоумённо разглядывает белые тумбочки, деревянные кроватки и маленькие гримасничающие, что-то лепечущие лица. Когда медсестра или няня заходят в палату, она кидается вперёд и, наткнувшись на решётку, кричит: «Мама!» так, что слышно в соседнем отделении.
Уколю, решает Матрёна. Это что же, и глаз не сомкнуть?
Шура гасит свет и с облегчением направляется к старенькой кушетке в углу за раздевалкой. Но не успевает она вытянуться с блаженным вздохом
Шура! Шурка! Димедрола пачка пропала!
Кого?.. Ты чё, Моть, опять невроз? бормочет она, не в силах разлепить веки.
Какой тебе невроз! Димедрола пачка, говорю, десять штук по ноль, ноль две! В процедурной на столе была а теперь нету!
Ну упала, может! На полу смотрела? И кому она, зачем? Ты какая-то, Мотька, правда несчастливая Брошенных кормили ты процедурную запирала?
Да запирала, запирала! Или, может Ну-ка, пойдем
В седьмой палате стояла тишина. Полная луна плывёт за окном над рваным одеялом, пришпиленным вместо занавески. От этого одна часть палаты залита призрачным голубоватым, другая же тонет в непроглядной тьме. И туда, в эту тьму, тихо и внятно говорит Матрёна.
Приходько. Слышишь меня? Ты димедролу пачку взял. Верни.
И ясный голос из глубины мрака отвечает ей:
Что вы ко мне пристали? Поспать человеку уже нельзя.
Приходько, шепчет Матрёна, спотыкаясь в темноте о кровати. Ты ж сам, когда в углу стоял, про димедрол спросил почему не прячем!
Не брал я ничего Я просто так спросил.
Слушай, ты, козёл! Ну-ка не выпендривайся! Быстро отдавай!
Шура, ты подожди, не нервничай Приходько, тебя как звать? Слава? Выйди сюда, Слава, я с тобой поговорить хочу. Брюки надень и выйди. Слышишь, Славик? Я тебя прошу. Ну, ты ж не брал, чего ж тебе бояться? Выйди в коридор.
Одевается Приходько долго. Так долго, что Шура успевает спуститься и постучать в приёмный покой, шепча: «Николай Сергеич! А, Николай Сергеич!» Так долго, что на стук открывается соседняя дверь в соматическое отделение, и сестра Валя, высунувшись, зло хрипит:
Ну, сколько можно?! Ну, нету вашего Сергеича, не-ту!.. А я почём знаю?
Тем временем Матрёна тянет Приходько в коридор, приговаривая:
Ты у нас давно лежишь, всех тут знаешь лучше меня. Подскажи кто мог взять? Помрёт же мальчишка от десяти штук, понимаешь ты, дурья голова?!
А я при чём?.. Ну поищите, может, спрятано где.
Может, может. Я и говорю! Ты давай в своей посмотри, а я в восьмой.
Нету его ни в приёмной, нигде! докладывает Шура, запыхавшись.
Матрёна останавливается и долго шевелит губами, глядя в потолок. Потом поворачивается к двери седьмой и спрашивает ровным голосом:
Ничего не нашёл?
Нету! Счас ещё О! Смотрите, у Дениски мелкого в тапке! Подложил кто-то, точно.
Давай сюда! Четыре штуки Остальные где?
Не знаю, вот эти только я не брал.
Ну и что с тобой теперь будет, ты знаешь? тихо спрашивает Матрёна, беря его за подбородок.
Приходько молчит, стараясь вывернуться.
Тебе желудок надо мыть сию минуту. Ты понял, нет? Матрёна вдруг хватает мальчишку за плечи и трясёт так, что у того клацают зубы. Меня ж судить будут за тебя, придурка! У меня ж двое пацанов старший такой, как ты! Что я тебе плохого в жизни сделала, гад?! Что, скажи!
Да отпустите! Не брал я Ну, надо вам, так мойте желудок.
Через некоторое время Приходько, пришлёпав из ванной, со стоном плюхается на кушетку в коридоре. На него вдруг находит необычайная говорливость.
Скажите, а вы раньше в инспекции не работали? Ну, по делам несовершеннолетних? Там одна есть, похожа на вас. Барон ей однажды говорит Барон это у нас один пацан
Матрёна легонько всхрапывает во сне, приоткрыв рот.
Мама! вдруг прорезает тишину пронзительный голосок. Ма-ма! Ма-ма!
Гос-споди, царица небесная
Ма-а-ма-а!!
В одиннадцатой палате фигурка в майке и в беленьких носочках мечется взад-вперёд по кроватке. Услышав скрип двери, фигурка кидается к ней и, наткнувшись на решётку, кричит:
Ма-а
Но при виде двух белых халатов она, покачнувшись от неожиданности, шлёпается на клеёнку и, приоткрыв рот, разглядывает их. Спросонья ей трудно разобрать, который больше похож на маму. Внезапно совсем радом оказывается чужое, страшное лицо, и фигурка, взвизгнув, забивается в угол.
И укол не берёт Ну, чего, чего? ворчливо спрашивает её Матрёна, вынимая из кроватки. Не привыкла ещё?.. Привыкай, подруга, теперь твоё дело такое
Свободной рукой она вытаскивает в коридор стул и, пристроив Жанну на коленях, начинает покачивать, бормоча: «Спи, дитя моё, усни Закрой глазоньки свои » Некоторое время новенькая ещё всхлипывает, вздрагивая все тёплым тельцем, потом дыхание её становится ровнее, реже, веки смыкаются И наконец, навалившись горячей щекой на руку Матрёны, она засыпает. Широкая, сладкая улыбка появляется на потном розовом личике.
Ей снится что-то тёплое, ласковое, знакомое
