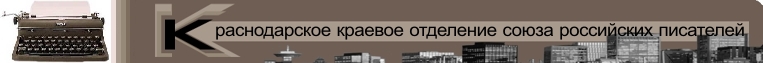

Родился 27 ноября 1923 года в городе Харбине в Манчжурии. В 1936 году, вскоре после возвращения в Советский Союз, родители его были арестованы. Отец расстрелян, а мать отправлена на долгие десять лет в Карагандинские лагеря. Оба реабилитированы в 1957 году. Сам Абдашев тринадцатилетним подростком был определен в Верхотурскую закрытую трудколонию на Северном Урале. Пилил лес на деревообделочной фабрике. Позже был рабочим поисковой геологической партии в пустыне Бетпак-дала, плавал масленщиком на буксирном пароходе.
В 1940 году, сдав экстерном экзамены за среднюю школу, Абдашев поступил в Калининский педагогический институт. Но началась война, и он уходит добровольцем на фронт, принимает участие в обороне Москвы. После окончания военного училища получает назначение на Кавказ. Командует взводом, а затем батареей в истребительном противотанковом артиллерийском полку, освобождавшем Кубань от немецко-фашистских захватчиков.
За время войны Юрий Абдашев был дважды ранен. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и боевыми медалями.
Высшее образование получил в Краснодаре уже после войны. Девять лет работал учителем в селе Быстрый Исток на Алтае и в Краснодарской железнодорожной школе № 58. Затем четыре года – на журналистской работе. К этому периоду относятся издания его первых книг.
Рассказы и повести Юрия Абдашева полюбились постоянным читателям журналов «Юность» и «Смена». Книги его выходили в Москве, Краснодаре и за рубежом.
Член Союза писателей СССР с 1962 г. Возглавлял Краснодарскую краевую организацию Союза российских писателей с 1991 г.
Умер 23 января 1999 года в Краснодаре. Установлена мемориальная доска на доме, где жил и творил Ю.Н. Абдашев.
ВСПОМИНАЯ О ДРУГЕ
Решившись сказать несколько слов о моем единомышленнике, соратнике и друге Юрии Николаевиче Абдашеве, я испытываю, тем не менее, определенное неудобство. Оно двоякого рода: смущает как то, что он был старше, житейски опытней, больше видел и пережил, так и мое – ко времени начала нашей дружбы – положение более литературно «продвинутого», как сейчас выражаются, удачливого, по молодости амбициозного писателя. Тут бы такт и тон необходимый соблюсти… определить и ракурс, вместивший бы на двух-трех страничках все сорок лет моего с Абдашевым общения.
Вряд ли это в точности сейчас возможно.
Скажу лишь, что сблизило нас, прежде всего романтическое мировосприятие, любовь к одним и тем же книгам и стихам, интерес ко всему тому, что еще не изведано, что где-то там в иных, пределах, за другими горизонтами… Но если этот интерес еще как-то можно объяснить, исходя из моего жизненного пути, сложнее будет разобраться, исходя из его биографии, совсем не такой привычно-трудовой и социально безоблачной, как можно подумать, прочитав бравурное вступление Б. Полевого к книге «Летающие острова», одной из самых заметных у Абдашева. Потому, что были в прошлом у него и трагические времена – расстрел отца в подвалах Лубянки, арест матери, колония для несовершеннолетних членов семей, так называемых, «врагов народа». Была и война…
Но было, по-видимому, в каждом из нас двоих что-то дарованное свыше, будоражившее воображение и ум уже с детства… заставлявшее писать именно об «алых парусах», дальних странствиях и открытиях, а не, скажем, о серпе и молоте…
Хотя, конечно, в определенном смысле мне было дано больше, чем Юрию Абдашеву. Болезни и недомогания не давали ему особенно разъезжать и странствовать, он был домосед поневоле. Помню, например, как однажды коротали мы с ним вечерок над атласом мира. Он раскрыл его как раз на листе, где посреди сурового Ледовитого океана дробными брызгами обозначены были острова Де Лонга – Генриетта, Жаннетта, Беннет. Я тогда мало что о них знал. И Юрий увлеченно начал рассказывать о самом Де Лонге и его трагическом плавании. Вдруг, взмахнув руками, уронил лицо на этот лист карты:
– Эх, Лёня, побывать бы там самому!
Отсюда как раз и странные, быть может, для его биографии рассказы и повести «Летающие острова», «Сын Посейдона», «Искатели затонувших якорей», «Ветер удачи», «Пять тысяч миль до надежды» с их светлым восприятием жизни, духом неутомимого поиска… литературно добротные, написанные плотным четким русским языком, быть может, чуть излишне «ухоженным», рафинированным… Примечательно, что для полноты представления о друге, для цельности его образа мне чего-то все же в нем недоставало, что, как у близкого к нему человека, долго вызывало некую даже досаду.
Не возьму на себя ничего лишнего, если скажу, что я буквально заставлял его своими упреками и нотациями писать о войне. Мне казалось духовно его уплощающим и неубедительным то обстоятельство, что, зная войну, получив первое ранение еще в боях под Смоленском в самом ее начале, командуя батареей сорокапяток под Крымской на Кубани в 1943-м (тяжелое ранение в голову, орден Отечественной войны I ст.), он о тех незабываемых днях и событиях писать почему-то не торопился.
Иногда его приходилось как бы подстегивать, «давить на самолюбие», – на мой взгляд, он неправомерно отвлекался на разное житейское, второстепенное. Хотя у людей как у людей. Тем более, что он все же написал эти две повести: «Далеко от войны» и «Тройной заслон»… Они достоверны и убедительны и, что вполне ожидаемо, даже отчасти романтичны. Свой почерк, свой опыт, свой взгляд на происходившее.
Я любил слушать устные рассказы Юрия о его досоветском еще, харбинском детстве. Они изобиловали экзотическими подробностями и дымными неустоявшимися запахами быта русской эмиграции (хотя его отец не был прямым эмигрантом, он служил на КВЖД). И снова мои уговоры: не тяни, не упускай времени, пиши!.. Помнится, дополнительный импульс к работе дала ему книга В. Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», страницы которой мой друг читал, смакуя чуть ли не каждые слово, метафору и образ. Что ж, Катаев – большой мастер осязательного, чувственно предметного письма, что было близко и манере Абдашева… Этот интерес, к сугубому, как бы, ощупыванию явления, к предметности, к атмосфере притягательно-чуждого для нас харбинского мира Абдашев прекрасно заявил в «исповедальной» книге «Моление о чаше», которую он так и не дописал. Как обычно отвлекался на постороннее и в последние свои годы. То работа с молодыми литкружковцами (чем заслужил любовь и благодарную память многих из них), то рутинная служба в краевой организации Союза российских писателей, инициатором и вдохновителем становления которой он был.
И вовсе, скажем, не случайно. У него всегда была ПОЗИЦИЯ. Он был непримирим к сталинизму, проявлениям всякого рода доморощенного национализма и шовинизма, к оголтелой соцреалистической графомании (что можно проследить и по его публицистике). Это дополняет облик моего друга, при всей его человеческой мягкости, уступчивости и доброте, жесткими чертами бывшего артиллериста, стоявшего насмерть против фашистских танков.
Таким он в моей памяти и останется.
Леонид ПАСЕНЮК
27.06.2000
ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ:
Золотая тропа: Повесть. – Краснодар: Кн. изд-во, 1960.
Покоя не ищем: Повесть. – Краснодар: Кн. изд-во, 1962.
Сын Посейдона: Рассказы. – Краснодар: Кн. изд-во, 1964.
Летающие острова: Повести и рассказы. – М., Мол. гвардия, 1966.
Перья фламинго: Повесть. – Краснодар: Кн. изд-во, 1968.
Сын Посейдона: Неоконченная акварель; Тихое утро: Рассказы. – Берлин: Немецк., 1968.
Искатели затонувших якорей: Рассказы и повести. – Краснодар: Кн. изд-во, 1970.
Покоя не ищем /дополн./: Повесть. – Краснодар: Кн. изд-во, 1973.
Пять тысяч миль до надежды: Повести и рассказы. – Краснодар: Кн. изд-во, 1977.
Мои острова: Рассказы и повести. Варшава: Польск., 1975.
Ветер удачи: Повести. – М.: Мол. гвардия, 1980.
«МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ»
Отрывок из романа
Тогда отец отсутствовал довольно долго, и я успел сильно соскучиться. А когда услышал, что завтра папа будет дома, просто ошалел от радости. Я не знал, как выразить свой восторг, и даже попытался взбежать вверхпо отвесной стенке на кухне, приведя в изумление нашего повара.
Я отчетливо помню это появление отца. Он вошел в столовую, и в его поднятой над головой руке я увидел толстенького серого щенка. Это была немецкая овчарка, которой от роду едва исполнился месяц. Как я был счастлив! Оказалось, что, возвращаясь домой, где-то возле Ванкувера американские друзья пригласили его в питомник для служебных собак, принадлежавший «Маунтин полис», горной, или по-нашему пограничной страже. Там он и раздобыл это чудо. Может статься, в питомнике со щенком расстались относительно легко из-за лишних, так называемых прибылых пальцев на задних лапках, которые якобы влияли на чистоту породы. Уже у дома наш знакомый фельдшер, который был мастером на все руки, запросто откусил их маникюрными щипчиками, присыпал ранки желтым порошком йодоформа и заклеил липким пластырем. Спустя несколько дней от операции не осталось и следа, все зажило «как на собаке». Таким образом, чистота породы была восстановлена.
Через год смешной щенок, пахнувший молочком, превратился в громадную собаку, серую с рыжеватыми подпалинами и совсем темной спиной. Мне редко попадались такие рослые и крепко сложенные овчарки. Когда, в порыве нежности, он клал передние лапы на плечи мамы или Ама-сан, то был с ними почти одного роста. За эти месяцы он сумел изрядно нашкодить: погрыз ножку папиного письменною стола и сжевал в гостиной кусок большого овального ковра, выписанного из Франции, синего с желтыми подсолнухами. Потом приходилось постоянно это место маскировать креслом.
Готовили Майклу отдельно. Варили пшено или чумизу на бульоне с костями и недорогим мясом. Все было очень чисто, и повар даже пробовал еду на вкус, помешивая в кастрюле большой ложкой.
Нашего любимца мы чаще всего называли сокращенно – не Майкл, а Майк, что, кстати, и делают англичане по отношению к друзьям и близким, носящим это прекрасное имя. Когда мы приехали в Советский Союз и стали жить в Калинине, теперешней Твери, мои новые знакомые, местные пацаны, удивлялись: «Тю-ю, кобель, а зовут Майкой. Как корову». Можно было не сомневаться, что они не читали Джека Лондона.
У собак, как у людей, тоже своя судьба. Иногда их жизнь течет скучно и однообразно, иногда полна событий и потрясений. Майкл сопровождал нас с отцом, когда мы ездили на рыбалку и просто ходили в Яхт-клуб. С нами он пережил наводнение, когда нас затопило и мы вынуждены были некоторое время скитаться по гостиницам и временным жилищам, и когда стал вопрос о том, чтобы возвращаться в Россию. Именно в тот раз я впервые проявил характер: «Без Майкла я никуда не поеду. Ни за что!» Родители и сами не мыслили себе разлуку с любимым псом. Но все было не так просто. Ехали мы практически в никуда. Никто не знал, где мы будем жить и чем заниматься. Помимо сложностей с оформлением, через границу Майкла нужно было перевозить багажным вагоном в специальной клетке. Потом это все подтвердилось. На каждой большой стоянке отцу приходилось бегать в другой конец состава, чтобы накормить собаку и вывести погулять. Только после станции Отпор с согласия соседей Майкл перебрался в наше купе.
А до этого мы стояли перед выбором – то ли ехать в Америку, куда нас настойчиво звал дядя Шура, предлагая свой загородный дом на Кони-Айленд, то ли в Советский Союз. Конечно же, мама склонялась к первому варианту, потому что кое-какие сведения о положении дел на родине до нас доходили. Говорили и о недавнем голоде, и о необоснованных арестах, и о лагерях, но отец относил это все к разряду ничем не подтвержденных слухов. Иногда он приносил иллюстрированный журнал «СССР на стройке» с дымящимися домнами, плотинами гидроэлектростанций и мускулистыми девушками в белых панамах с глазами полными энтузиазма и безумного ликования. В агитпропе не зря ели хлеб.
– Машенька, у Юрки должна быть родина, и это главное, – убеждал отец. – Нельзя же всю жизнь скитаться по чужбинам. А что касается слухов, то, во-первых, мы ничем не провинились перед этой властью, и карать нас не за что, а во-вторых, от судьбы не уйдешь. Все будет, как будет. И пусть минует нас чаша сия, о чем так мудро сказано в Евангелии.
Остановившись в Калинине, где мы в конце концов получили комнату, отец устроился фотокорреспондентом в газету «Пролетарская правда», потому что подходящего дела, связанного с его знаниями и опытом тут предложить не могли. А фотография была его страстью, одним из многих его увлечений. Работы отца прямо-таки потрясли местных журналистов. Надо заметить, что у него, помимо традиционной «Лейки», была прекрасная немецкая камера «Экзакта», большой запас кодаковской пленки и фотобумаги, целые рулоны. Один из папиных фотоэтюдов успели напечатать на вклейке в пятом или шестом номере журнала «Новый мир» за тридцать шестой год. Тогда такое еще практиковалось в толстых журналах.
Но чаша, о которой молил Господь, не минула и нас. Известно, какая судьба постигла моих родителей и как поплатились они за свою наивность и легковерие. После гибели отца и ареста мамы полгода мы прожили с Майком вдвоем. На наше счастье в доме оставались деньги, было много дорогих вещей, которые охотно принимали в скупках и комиссионке. Кое-чем помогали соседи. Но в сентябре пришли и за мной, чтобы на целых два года упрятать в закрытую трудколонию на Северном Урале, в Верхотурье. К тому времени мне не исполнилось еще и тринадцати лет.
Родина-мать, которую завещал мне отец и право на которую оплатил такой дорогой ценой, так и осталась для меня мачехой, как ни горько об этом говорить. Мне далеко до идеального героя, но перед ней я чист, потому что любил ее, защищал, как мог, работал, как умел, никого не предавая, не приспосабливаясь, не изменяя себе, как мне не изменяли самые близкие люди.
Я не представлял тогда, что станет с моей собакой, хотя меня уверяли, что передадут ее в надежные руки. Хорошо помню минуты нашего расставания. Я целовал его морду и молча плакал, хотя мне не хотелось проявлять слабость в присутствии посторонних. Мой пес плакать не умел, страдание передавали его желтые все понимающие глаза. Рядом с ним я всегда чувствовал себя в безопасности. И когда мы гуляли по улицам, и когда назревала драка с местными хулиганами или пацанами из соседних дворов. Это был первый случай, когда он был не в силах защитить меня, думаю, понимал это и оттого страдал еще больше. Его никто никогда не дрессировал, он был просто очеловечен до невероятности, удивительным образом чувствуя не только настроение близких ему душ, но и самую обстановку в доме.
Позже я узнал, что Майкла взял к себе какой-то военный чин, по-моему летчик, потому что такие собаки в ту пору были редкостью. На улице прохожие оглядывались на него. Видимо, в голодуху здесь поели не только породистых голубей, но и собак. Однако Майкл не смирился, не захотел жить у незнакомых людей, сорвался однажды с поводка и ушел, ушел навсегда. Наверное, он не мог вычеркнуть нас из своей жизни, не захотел продаваться за чечевичную похлебку, гордо променяв сытость и тепло чужого очага на полуголодное существование свободного, независимого бродяги.
Когда через два с половиной года я вернулся в город и попытался разыскать его, это ни к чему не привело. Чего я только не предпринимал, к кому не обращался! Ребята из нашего дома рассказывали, будто пару раз Майкл забегал во двор, где многих знал, и даже не брезговал подачками, от чего в былые времена категорически отказывался, никогда не принимая пищу из чужих рук. Но этих мальчишек и девчонок, моих вчерашних приятелей, он вправе был принимать за своих. Только все это, к сожалению, случилось очень давно, и с тех пор никто из ребят его не видел. Он словно растаял, растворился в этом чуждом ему мире. Так я утратил последнее золотое звено, которое связывало меня с детством…
А в той, прежней жизни, когда я окончил первый приготовительный класс, было решено, что Ама-сан нас покинет. По общему убеждению моему воспитанию следовало придать несколько иное направление, а милая няня моя вместо «голуби» говорила «гуруби» и вместо «верблюд» – «бурбурют». Для меня это было равносильно катастрофе. Да и для остальных тоже.
Ама-сан уезжала в Японию навсегда. Когда погрузили на извозчика ее вещи, мы обнялись в последний раз и оба разрыдались. До этого я никогда не видел ее слез. Она была человеком сдержанным и умела владеть собой. Только на этот раз плакали все. И тут вдруг завыл Майкл. Прежде с ним подобного не случалось, разве что когда я пытался играть на губной гармошке. Но то больше напоминало пение. А тут он сначала как-то жалобно, по щенячьи заскулил и вдруг завыл по-настоящему, задрав голову к небу.
С Ама-сан мы больше никогда не виделись. А когда осенью сорок пятого я услышал об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, первая моя мысль была, конечно же, о ней. Но что я мог узнать в тех условиях? На Востоке еще шла война, здесь люди ходили в намордниках. Это был тот случай, когда я не мог защитить ее, как преданный Майкл в памятный день расставания не смог защитить меня. Уцелела ли моя Ама-сан в огненном смерче, сумела ли пережить ад, сотворенный человеком, который возомнил себя венцом творенья, я не знаю. Как не знаю многого другого, что можно предполагать и о чем можно только догадываться.
Но это «другое» уже за пределам человеческих возможностей и находится в ведении иных, высших сил, правящих судьбами людей и зверей на нашей прекрасной и жестокой планете.